Он уже ничего не знает. Кричит в пустоту и по ночам шепчет несвязные слова, чувствуя ноющую боль.
У него забрали его наркотик – он не ощущает уже тех красок и цветов, что были раньше. Не чувствует более ту бурю эмоций, что вызывала в нем лишь его личная доза героина.
Он принимал её исправно – говорил, что он не зависит, но сам не ощущал, насколько глубоко ее оковы впились в его кожу. Не понимал, что камень, привязанный его ноге, тянет его к самому дну пучины – ему не выбраться, не вздохнуть воздуха; обратной дороги ведь нет.
У него забрали его героин.
Но забыли выдать дозу метадона – боялись, что он подсядет.
Он сломался, словно часы, в которых дала трещину одна деталь – и слаженный механизм рухнул к самому прародителю, прямиком в кипящий котел. Сколл был там не раз – и в день, когда дух подселился к нему, и даже в последующие разы, но он всегда понимал, что выкарабкается из того безумного марева, что затягивает его, как болото – будешь пытаться выбраться и лишь увязнешь больше. Его было тошно от той мутной воды, что забивалась в легкие, проникала в самую суть; он чувствовал как тонкие пальцы его демонов, ведомые Хати, распарывают грудную клетку, наслаждаются звуками рвущейся плоти и хруста костей. Это – их личная соната. Они проходили когтями по хребту, забирались в шерсть – приятно, аж до одури, но так обманчиво; они шептали приятные слова, но тогда еще Сколл на них не велся – знал, что также ему шептать будет она. Когда-нибудь.
Но сейчас все сгорело, словно пух одуванчиков; расплавилось на печи и не сковалось по-новому; кузнец ослаб и оставил все как есть – жидкий метал и недоделанное оружие; он сдался. И Сколл тоже сдается – он был сильным ради кого-то, не для себя. Все потеряло свою цену; мелкие монеты прекратились в крупные, крупные – в мелкие, и уже не разберешь, что, где и как. Волк добровольно отдается в руки апатии и ломки, они будут его спасительными кораблями в этом тревожном море; но проблема в одном – у штурвала никого и они несутся прямиком в бурю.
И Хати не спасет его. Потому что собственный дух его уже боится.
Он видит это чертово безумие, что плещется в глазах сосуда; Хати недоволен, он должен был сам свести Сколла с ума, дать трещину его самоконтролю, разбить это проклятый витражный шар, где каждый осколок – остатки его чертовой личности, чистоты и непорочности. Он – проклятое воплощение полной противоположности духа. И от этого Хати лишь веселее ломать его вдребезги, наблюдать за всех вакханалией со стороны, а потом вновь собирать свой сосуд по кусочкам – он хочет стать для волка разрушителем и творцом; он будет собирать Раскола, творить нового его и с раздражением понимать, что прошлый был лучше. Гораздо лучше; второго такого уже не будет.
Хати рад этому безумию, что он подарил Сколлу – оно горькое и скользит по гортани; обволакивает мозг и притупляет чувства. Вот только дух врет – и безумие даже не от него; он лишь спустил спусковой крючок пистолета – он не заряжал его, не снимал с предохранителя. Он просто нажал на курок. И Сколл сам рванул, как пороховая бомба. Он сам такой по себе и без Хати. Его безумие было лишь вопросом времени и обстоятельств.
У Сколла абстинентный синдром.
Его кости, стальные и прочные – они гораздо прочнее его психики, кажется, гнутся под напором боли, ломаются, впиваясь острыми осколками в нежную плоть, царапают тело изнутри. А это боль – монстр, съедающий последние крупицы чистого сознания, умиротворенности и спокойствия; кости трещат, и Сколл слышит это по ночам, чувствует на языке вкус собственной крови и просыпается в холодном поту от плохих ощущений и проклятых воспоминаний; он хочет стереть себе память и вырвать с корнем пустую душу.
Он разрывает зубами плоть – и свою, и чужую. Стонет по ночам, бьется в горячей агонии и лихорадке, а по утрам понимает, что ничего не изменилось.
Она не пришла. Её разорвали собаки.
И если Сколл был зол первую неделю, пытался торговаться с судьбой, пытался претвориться, что это все плохой сон или явно неудачная шутка, то сейчас его накрыла волна аптии – он перестал что-либо чувствовать. Он говорит, что отомстит – и не врет, однако месть ничего не решит – он пойдет войной на Порченных, при возможности сам разорвет глотку тому, кто посмел убить его спутницу жизни, однако ничего и никто не вернет её в жизни. Попытки тщетны и волк это прекрасно понимает; он бродит по ночам, не следит за своими порченными и молит небеса о том, чтобы они забрали его вместо неё. Но ничего не меняется – жизнь течет своим чередом; Сколл не видит положительных сторон и обсыпает все черными блестками – под цвет траура, под цвет его души и шерсти.
Хати зол, что Сколл пустует; ему не нравится не его положение, не то, что происходит вокруг. Его не устраивает то, что порченный изводит себя голодовками и часто не спит – Хати вкрадчиво шипит ему на ухо о том, что он рано или поздно умрет, но лучше поздно, чем сейчас; но Сколлу все равно, и дух перехватывает из безвольных лап контроль, поражаясь тому, как легко и послушно волк сдается ему – гордый и непокорный, он никогда не отдавал контроль без боя. До смерти Эск, по крайне мере. Дух шипит о том, что не надо держаться за прошлое, смотрит на свой сосуд, забившийся в самые дальние уголки сознания, и не знает, что делать – Хати не тот, кто может помочь хорошим советом, потому что у него нет хороших советов. Он не умеет поддерживать; он ни разу не страдал от чьей-то потери, потому что знал, что привязываться к кому-то – гиблое дело. А уж влюбляться и заводить семью – подавно.
Хати не страдает, он пытается вернуть давно умершего Сколла к жизни, и тот поступает точно так же – но если волк мертв морально, то его спутница умерла физически. И порченный стремится к ней; дух впервые в жизни становится её совесть и кричит о том, чтобы он подумал хотя бы о детях, что у него остались.
— Один ушел. — Сколл раздраженно рычит; ему не до проблем с Кардеро, у него куча других задач, и он не желает более сказать горным козлом за этим мелким щенком. Это его выбор, он уже не маленький. А к девочкам он и не сунется – они-то за отца его не считают, а показываться в таком разбитом, словно сброшенным с седьмого этажа, состоянии он не желал – он не будет слаб в чужих глазах.
– Что вы здесь делаете? Убирайтесь с нашей территории!
Он слышит чужую речь, словно сквозь подушку; под его лапами сухие еловые иглы и волк чувствует их твердыми подушечками лап, ощущается легкие показывания, чужой запах – слишком резкий, чужой, щекотящий ноздри и вызывающий раздражение где-то на интуитивном уровне. Порченный. Он срывается с места слишком резко, мгновенно перехватывает над собой контроль под ликующий крик духа; он врывается на поляну неожиданно, стоит слишком напряженно, всем своим видом выдавая агрессию – он утробно рычит, когда порченные замирают, а после, оценив ситуацию, смело делают шаг вперед, щуря глаза в ожидании хорошей перепалки.
— Прочь, — Сколл рычит слово слишком хрипло, с надрывом – он так давно не разговаривал с кем-либо; он внимательно смотрит на волков, краем глаза замечая порченную из Чернолесья и мысленно надеется на её благоразумие – он молит небеса о том, чтобы она поскорее убиралась отсюда. Приближенному не хотелось хоронить еще нескольких волков. Их стая и так потерпела потери. А, в особенности, Сколл.
Его Эскарина умерла. И волк не дотянет до следующего рассвета.













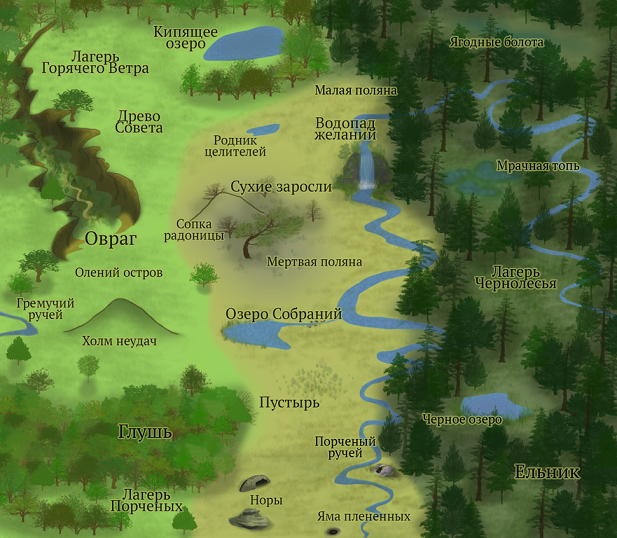


























 515
515










































